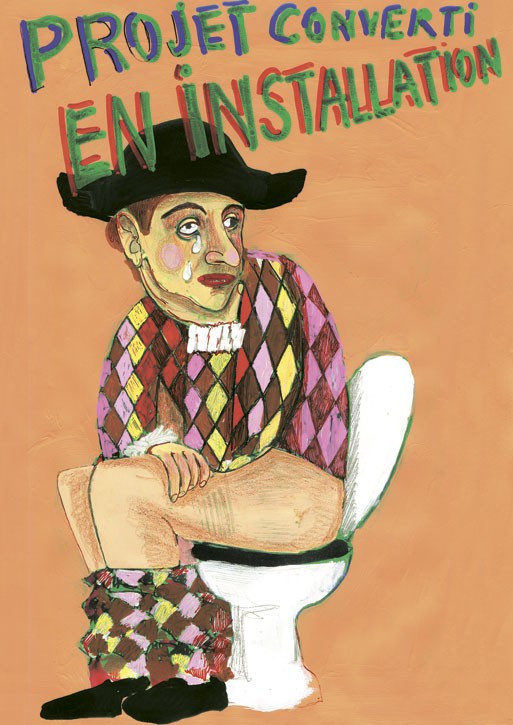Ги Лардро. О печалящихся (1978)
Из Christian Jambet, Guy Lardreau. Le Monde. Ontologie de la révolution, tome 2. Paris: Éditions Grasset et Fasquelle. 1978. pp. 108-110.
Отрывок из книги Мир[1] Ги Лардро и Кристиана Жамбе, изданной в 1978 году в качестве продолжения работы Ангел[2] (вышел в 1976), входящей в дилогию под названием Онтология революции. Книга поделена на две части: Моральная установка и мировой порядок (написанная Лардро) и Феноменология моральной установки (за авторством Жамбе). В Мире авторы заняты определением отправной точки для практического действия после утраты веры в дискредитировавшую себя идею Революции. Такую отправную точку они называют моральной установкой:
тому, кто упорствует в отвержении этого мира, каков он есть, кто не смирился с его порочностью, остаётся — вдали от соблазнов политики, опорожненных больших означающих, в которые политика вписывает наши жесты — лишь чистый протест со стороны субъекта, который мы привыкли называть моральной установкой (l’attitude morale)[3]
Авторы противопоставляют моральную установку идее высшего блага или дискурсу Этики, которые фундируют моральное действие в онтологии (путём привития любви к фатуму, единству свободы и необходимости: стоики, Спиноза), поиске условий для обретения счастья, содержащихся в мире: реальное, будучи в этом отношении только предметом пари и решения; или даже будучи самим пари или решением (коих находится всегда два: Господское и Восстание), ни наделяет такое действие смыслом, ни гарантированно лишает его оного; как таковое, реальное ни хорошо, ни дурно (оно даже не имморально: Ницше)[4], ни является царством свободы, ни подчиняет человека необходимости, будучи безразлично к обобщениям на свой счёт. С помощью последних философия делает из него мир (мировой порядок) или Целое (tout). Тем не менее, говорят авторы Мира, существует радикальное Зло. Оптимизм и пессимизм и связанные с ними аффекты счастья и печали — философские позиции, вытекающие из этих предвзятых интерпретаций, снимающие вопрос о необходимости (в смысле моральной необходимости Практического разума, одном из наиболее важных идейных источников Мира вместе с лакановским психоанализом[5]) противостоять ему. В одном случае Зло является не более чем иллюзией конечного субъекта, избавиться от которой помогает проникновение мыслью в разумно устроенное Целое и его мирскую экономию. Во втором — мы размашистым жестом обрекаем реальное, заранее воспринятое в качестве Целого, на гибель, запрещая пари на Восстание. Моральная установка как отправление или метод (греч. μέθοδος)[6] для мысли и действия оказывается «возможной» только на развилке между смыслом и е-смыслом, возможностью и невозможностью, при воздержании от подобной философской терапии. Отталкивается от неё тот, кто, вместо взгляда на мир имея в качестве опоры одно лишь пари, не знает ничего ни о себе, ни о мире: так уж этот человек близорук и прямодушен, без задней мысли.
В конце можно найти приложение с отрывком Кристиана Жамбе о гноизсе и продуктивном или творческом воображении (l’imagination créatrice)
***
Несомненно, может показаться, что [изложенный в этой книге] анализ вгоняет в печаль. Не исключено, как сказал бы Ренан, что истина сама по себе является печальной[7]. Но это не так. Правда, этот анализ не даёт повода для радости или ликования (sans joie) — ибо мне не ведомо какое-то ещё ликование, кроме ликования Ангела, тогда как эта книга рассматривает его как нечто невозможное; но данный анализ не даёт повода и для печали, поскольку стремится отвлечь от неё вовсе.
Не вгоняя в печаль, моральная установка (l’attitude morale) распознает в оной один из ликов собственного врага (ennemi), прядущего мировой порядок.
Ибо печаль, как и довольство (contentement), заставляют вас занять позицию, определенную позицию, с которой видно, какими на самом деле являются вещи: это такая позиция, такая определенная позиция, с которой что умиротворенность (harmonie), что ужас (horreur)… одинаковы, неотличимы друг от друга. И оба эти «переживания» неприемлемы, поскольку они спешат сделаться тем или иным мировоззрением, они всегда уже являются философиями.
Эти переживания целого (totalitaires), пытающиеся, с каменным сердцем (intolérants) и несмотря ни на что, наделить мир смыслом.
Равно как и довольство, печаль отводит вопрос о Зле, и вместе с довольством она наделяет смыслом всё вокруг (prodigue de sens). Им обоим хорошо известно, что дела могут идти только так и не иначе, и что всё в порядке.
Печаль это меньшее совершенство души[8]. Но по причине, обратной той, которую видел Спиноза. Не потому, что печаль заставляет нас упустить порядок, и даже не потому, что она может заставить нас с ним смириться (assentir): для этого она слишком немощна (sans pouvoir). Печаль это всего лишь признак того, что мы изначально согласны [с происходящим вокруг]. Довольство и печаль это две разновидности аффектов всегда уже на всё согласного человека, различие же между ними состоит в том, всегда ли он заявлял об этом согласии или же начал исповедовать его со временем.
Но две ли это разновидности?
Попробую это представить так, как это, немного похожим образом, делает Барт во «Фрагментах речи влюбленного»:
X в печали; но его печаль особенна тем, что он может испытывать её в полной мере, только если она во сто крат больше той печали, которую способны себе вообразить вы. Эта печаль обладает такой чрезмерностью или перевесом, что, когда X, например, пьёт кофе, вы должны увидеть за этим занятием вечное напоминание о когда-то нанесенной ему страшной любовной ране; что, когда он звонит в вашу дверь, в то время как вы невинно наслаждались Монтеверди, вам, застигнутым врасплох, должно стать неудобно от того, не пробудили ли вы у него вашей музыкой воспоминание о крайне неприятном эпизоде расставания с Z; в общем, это чрезмерность такового свойства, что, всякий раз, когда вы отмечаете про себя, как потрепала его эта жестокая жизнь (le sentiez écorché par cette vie grossière) (которую проживаете и вы тоже), необходимо, чтобы он выставлял это напоказ, чтобы его тело подавало вам знаки, чтобы в этих вздохах, в этой прострации (relâchement des cuisses), в этом поникшем лице, вы, с трепетом, считывали боль, испытать которую вам не дано. Целое представление, чья напыщенность имеет только один смысл: отказать вам в праве однажды самим испытать такую же печаль (и что вы поначалу искренне считаете справедливым), оставив вас навсегда прозябать в мире вульгарного счастья.
Тактика печали заключается в принижении.
Печальный человек это существо с таким невыносимым уровнем самодовольства, который только можно себе представить. Как говорили раньше, полный как яйцо (plein de soi comme un œuf)[9]. Он с восторгом следит за тихой мелодией, издаваемой его органами и душой, словно за собственным попердыванием (une série perlée de pets). Но это потому, что самому ему кое-что известно. Разрез (coupure), который печаль проводит между людьми перед лицом испытывающего её, это сам разрез между знающим и нет. Спектакль счастливцев, скованных цепями и наблюдающих, как на стене пещеры отплясывают тени танцоров, вызывает у него усталую улыбку того, кто знает: ведь он-то, снаружи, под черным солнцем, узрел печальную правду вещей.
Ещё от печалящегося несёт смертью; «всё повидавший», своей нескрываемой ненавистью к другим он изводит самого себя: его мизантропия суицидальна. Для него единственный хороший человек это мертвый человек. Печаль глубоко имморальна.
И, кроме того, печалящийся — идиот. Пессимизм, благодаря которому ему удаётся сделать из своей печали солидную «философскую» позицию, заставляет всё держаться на паре произвольных изречений (logia) касаемо человеческой природы. Ни одно из них не выдерживает проверки реальным, о которое любые изречения разбиваются. Но о реальном печалящийся не хочет ничего знать, поскольку он уже узнал о нём всё (tout). Это искушение — куда более мерзкое и более коварное — которому он поддаётся, является столь же пошлым, что искушение так призираемого им оптимизма.
Моральная установка не имеет ничего общего с печалью. Из любви к людям, она хочет милости (douceur), терпимости всех к маленьким различиям друг друга, где каждый бы смог найти свои маленькие радости. Она распахнута этой стройной согласованности желаний, подвергающей печаль осмеянию. Конечно, не всё возможно, но возможного всегда несколько больше, чем могли бы вместить наши мечты.
Таким образом, ни печаль, ни довольство — ни тем более улыбка у подножия лестницы (le sourire au pied de l'échelle)[10]: на дне невыразимого отчаяния — великая веселость (la grande gaieté)[11].
Приложение
Для души, той части субъекта, что охвачена желанием восстания (rebellion), мир распадается как иллюзия, которую бунт (révolte) стирает в пыль по причине возмущения радикальным злом. Это возражение миру само делается возможным в возникновении некоего другого реального, держащегося на пари. Потому это реальное, Ангел, является реальным только для души, которая выдвигает его — перед лицом господского реального — в качестве собственной и самостоятельной (autonome) исторической задачи. Но для этой души не может идти и речи о том, чтобы поверять валидность своего ви́дения, сличая его с реальным — это исключается душой, она борется с этим, её единственная задача — этому препятствовать. Откровение Ангела восстающей душе и откровение этой души о существе Ангела уже является разворачиванием истории, её событий: ви́дение имеет эффект реального (la vision a effet de reel). В другом месте мы попытаемся показать, что, на полях философии, гнозис, с помощью своей доктрины активного воображения, пробовал придать смысл этому самостоятельному производству реального. В научном дискурсе, который сам принадлежит миру Господина, гнозис является единственной лазейкой для восстания. Это место, где раскрывается сокрытое, и, поскольку восстание всегда уже сталкивается с препятствиями в системе языка, это раскрытие осуществляется апофатически, негативно[12].
[1] Christian Jambet, Guy Lardreau. Le Monde. Ontologie de la révolution, tome 2. Paris: Éditions Grasset et Fasquelle. 1978.
[2] Christian Jambet, Guy Lardreau. L’Ange. Ontologie de la révolution, tome 1. Paris: Éditions Grasset et Fasquelle. 1976.
[3] Christian Jambet, Guy Lardreau. Le Monde. Ontologie de la révolution, tome 2. Paris: Éditions Grasset et Fasquelle, 1978. P. 13.
[4] Там же. pp. 151-153.
[5] «Итак, я говорю: каждое существо, которое не может поступать иначе, как руководствуясь идеей свободы, именно по этому в практическом отношении действительно свободно, т. е. для него имеют силу все законы, неразрывно связанные со свободой, точно так же как если бы его воля, значимая и сама по себе, и в теоретической философии была признана свободной*. Я утверждаю, таким образом, что каждому разумному существу, обладающему волей, мы необходимо должны приписать также идею свободы и что оно действует, только руководствуясь этой идеей. В самом деле, в таком существе мы мыслим себе практический разум, т. е. имеющий причинность в отношении своих объектов. Не можем же мы мыслить себе разум, который со своим собственным сознанием направлялся бы в отношении своих суждений чем-то извне, так как в таком случае субъект приписал бы определение способности суждения не своему разуму, а какому-то влечению. Разум должен рассматривать себя как творца своих принципов независимо от посторонних влияний; следовательно, как практический разум или как воля разумного существа он сам должен считать себя свободным, т. е. воля разумного существа может быть его собственной волей, только если она руководствуется идеей свободы, и, следовательно, с практической точки зрения мы должны ее приписать всем разумным существам» (Кант И. Основы метафизики нравственности. // Сочинения в 6 т. Т. 4. Ч. 1. М.: Мысль, 1965. С. 291-292)
См. также сноску
«*Этот способ — считать достаточным для нашей цели при знание свободы только как полагаемой разумными существами в основу их поступков лишь в идее — я выбираю для того, что бы избавиться от обязанности доказывать свободу также и с теоретической точки зрения. В самом деле, если даже такое доказательство и остается необоснованным, то все же для существа, которое не может поступать иначе, как руководствуясь идеей своей собственной свободы, имеют силу те же законы, которые обязывали бы действительно свободное существо. Мы можем, следовательно, избавить себя здесь от гнетущей тяжести теории» (Там же. С. 291)
«Справедливое же притязание даже обыденного человеческого разума на свободу воли основывается на сознании и не вызывающем споров допущении независимости разума от чисто субъективно определяющих причин, составляющих в совокупности то, что принадлежит только ощущению и, стало быть, обозначается общим именем чувственности» (Там же. С. 302)
[6] «Теоризм методичен, но не методо-логичен, эсхатичен, но не эсхато-логичен и т. д. Если теоризм «отправляется» (vient), то только стоя на месте, минуя любое становление, любую последовательность, любое намерение (pretention) и, следовательно, любой логос; он находится «на пути» — более того, он является только этим, поскольку путь, на греческом, это methodos, и поскольку мы полагаем строгое равенство между не-религией и методом — но как статикой» (Gilles Grelet, Un bréviaire de non-religion. Du théorisme, gnose rigoureuse comme antidote au nihilisme // Discipline hérétique. Paris: Kimé, 1998. pp. 216).
[7] Qui sait si la vérité n’est pas triste? — Эрнест Ренан говорит это в Священнике из Неми (Ernest Renan. Le prêtre de Nemi. Paris: Calmann Lévy, Editeur, 1886. P. xiii)
[8]«Душа может претерпевать множество перемен и переходить то к большему, то к меньшему совершенству, и эти страдательные состояния выражают нам аффекты печали и радости. Под радостью я буду таким образом разуметь дальше страсть, посредством которой душа переходит к большему совершенству; а под печалью — страсть, посредством которой она переходит к меньшему совершенству» (Спиноза Б. Этика. О происхождении аффектов. Схолия к Теореме XI (цит. по изданию Спиноза Б. Этика. Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001. С. 133)).
[9] фр. plein comme un œuf — переполненный, набитый битком, в данном случае — самодовольный, находящийся в самоупоении.
[10] Вероятно, намёк на рассказ Генри Миллера Улыбка у подножия лестницы (The Smile at the Foot of the Ladder)
[11] Лардро может отсылать здесь к Великому веселью (La Grande Gaieté, 1929) — сборнику стихов Луи Арагона
[12] Christian Jambet, Guy Lardreau. Le Monde. Ontologie de la révolution, tome 2. Paris: Éditions Grasset et Fasquelle. 1978. pp. 185-186.
Во второй части Мира Кристиан Жамбе обращается к исследованиям Анри Корбена (l’imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn Arabi, rééd. Paris, 1977; l’Homme de lumière dans le sou fisme iranien, Paris, 1971; на русском у автора можно ознакомиться с текстом Мир Воображения (Mundus Imaginalis)) и идеям Муллы Садры (в частности, Жамбе упоминается его Kitâb al-mashâ'ir, переведенный Корбеном на французский: Livre des pénétrations métaphysiques, Téhéran, 1964);
Перевел – Александр Сковородко (https://t.me/nosmessiesordinaires)